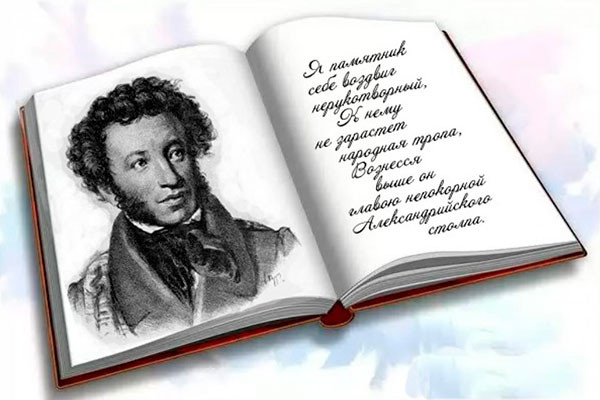Русский филолог: Мы не собираемся в полнолуние, чтобы поменять ударения в словах из прихоти
Что станет с запретом на англицизмы, как появились феминитивы, умирает ли русский язык и куда пропали точки в сообщениях
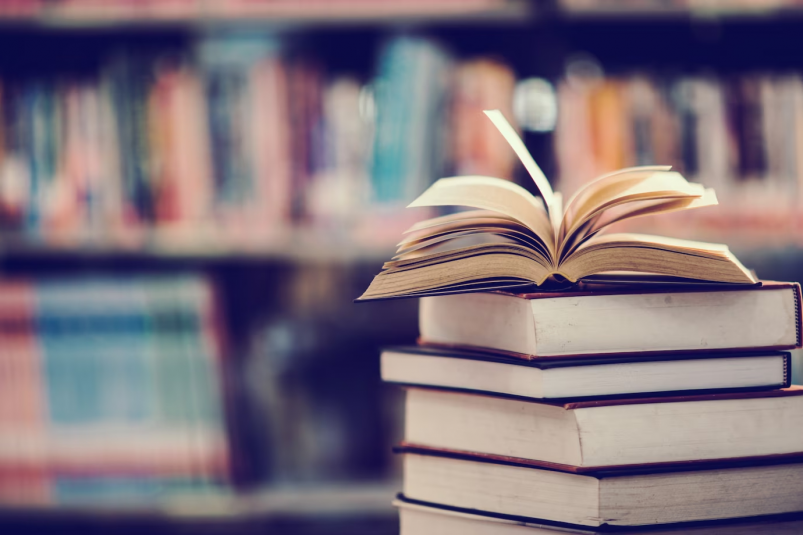
Тематическая иллюстрация. Фото: freepik.com
Предыстория:
Николай Стецко: “Промышленный сектор успешно справляется со всеми вызовами”
Во всём мире отмечают Международный день русского языка 6 июня, а в России — день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Специально к этому знаменательному событию кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ Елизавета Откидыч пообщалась с корр. ИА PrimaMedia о нашем великом и могучем. Эксперт рассказала о влиянии феминитивов на язык, запрете на англицизмы, о том, как молодёжный сленг влияет на отношения отцов и детей и стоит ли журналистам бояться нейросетей.
Елизавета Вадимовна, как Вы думаете, что-то изменится с запретом на англицизмы? Или ситуация будет такой же, как и с ненормативной лексикой, когда все просто проигнорировали запрет? Что вообще думаете о заимствованиях из иностранных языков?
— Начнём с того, что этот запрет будет чрезвычайно сложно реализовать. Ведь в случае с ненормативной лексикой у нас есть ограниченное количество слов, даже есть закон, в котором прописано, что мы считаем матом четыре слова, и все произошедшие от них. А в случае с англицизмами, которых значительно больше, первая проблема, которая может возникнуть — а какие именно запрещать — которые пришли в последний год-два или за десятилетия? Вряд ли возможно будет запретить уже привычные англицизмы “бизнес” или “интервью”. Да и бороться с англицизмами в интернете и блогосфере будет очень сложно, как и с матом.
Я думаю, что такой запрет отчасти может быть продиктован постоянным раздражением, возникающим у многих носителей русского языка из-за того, что мы просто перестаём понимать, о чём идёт речь. Но стоит отметить, что многие из нас прекрасно эту тенденцию осознают, более того, склонны её высмеивать. Например, в российском шоу Comedy Club (16+) год назад был номер “Табличка”, который набрал одиннадцать миллионов просмотров. Сюжет прост: собрание директоров крупной компании должно решить, как прикрепить табличку на дверь директора — прибить или приклеить. И весь номер строится на обыгрывании разных штампов, появившихся в деловой речи, в том числе и англицизмов, бессмысленно заимствованных. Например, там была и такая фраза:
“Наш ассистент-менеджер закопипастит сегодняшний департмент-митинг, где будут отражены все сегодняшние озвученные биг айдиа. И он скинет это в линке, теле письма или в аттаче”.
Мы примерно понимаем, о чём идёт речь, но не до конца. И это и раздражает, и смешит одновременно. Сам факт того, что такой сатирический номер есть и он имеет большую популярность, свидетельствует о том, что носители русского языка очень хорошо понимают, что есть заимствования неизбежные, а есть излишние, непонятные и потому мешающие нормальному общению. Но язык успешно с ними справляется, опять же через носителя. Мы сами, используя или не используя определённые слова, голосуем за или против их дальнейшей жизни в языке.
Вообще заимствования из других языков неизбежны, если существуют контакты между носителями разных языков. Это явление возникло не вчера: например, слова “карандаш”, “ангел”, “школа”, “апельсин” — это всё заимствования, но они нами уже не воспринимаются таковыми, потому что это уже мы к ним привыкли. И сказать, что заимствования язык портят, искажают и что он из-за этого при смерти, мы не можем. Если заимствование возникает, то скорее всего, это обусловлено какой-то потребностью носителя.
Приведу в пример слово “хейт”. На русский оно переводится как “ненависть”. Казалось бы: ну и зачем заимствовать, если есть русский аналог? Но ведь “хейт” и “ненависть” — разные вещи. Ненависть — это относительно устойчивое чувство резкого неприятия чего-либо. Допустим, можно ненавидеть своих шумных соседей, непунктуальность или манную кашу. А хейт — это специфическое коммуникативное действие в интернет-пространстве, выражение крайнего неодобрения или даже словесная агрессия, чаще всего в адрес публичного лица. В данном случае возникла потребность обозначить новое явление, причём маркировать его как отличающееся от уже существующего, с которым его можно перепутать при дословном переводе.
Елизавета Откидыч. Фото: Евгений Кулешов, ИА PrimaMedia
Почему именно сейчас обострилась тема с феменитивами? Волны феминизма были и раньше, но сейчас эти понятия стали вводиться в самые разные институты. И почему многими они воспринимаются негативно даже на слух (докторка, дизайнерка)?
— Опять же, если такая тенденция появилась, значит, она обусловлена какими-то потребностями носителей языка. Сами по себе слова-феминитивы не новы, они существуют в русском языке давно, просто многие из них оказались пригодными для использования в ограниченном количестве ситуаций или вовсе выходящими за рамки нормы. Например, “учительница”, “журналистка” — разговорные слова, “врачиха”, “докторша” — вовсе просторечные (недопустимые ни в одной сфере). Но мне в этом агрессивном насаждении феминитивов видится всё же какой-то искусственный процесс. Он преподносится как борьба за равенство. Однако объективно вряд ли что-то изменится в моём правовом статусе, если меня начнут называть филологиней, а не филологом.
На мой взгляд, такая отчаянная борьба за эти слова — формализм. Не думаю, что кого-то может действительно ущемить в правах или обидеть слово мужского рода. Ведь в русском языке есть слова так называемого общего рода, которыми можно называть лиц и мужского, и женского пола, при этом за ними сохраняется их “настоящий”, грамматический род — женский или мужской. Например, “умница”, “молодец”, “сирота” или “пьяница”. Эти слова пока ни у кого не вызывают вопросов. Ни одна женщина не обидится, если ей скажут “молодец”, а формально это слово мужского рода. Или теперь “молодец” теперь будем говорить только мужчине, а женщин будем называть “умница”? Мне кажется, что к названиям профессий, которые сейчас имеют мужской род, можно относиться так же, как к словам общего рода — это объективное явление, в них нет ничего обидного или страшного.
Однако ещё раз отмечу: если такая тенденция возникла, у носителей действительно есть потребность в этом. Потому что язык отражает то, как устроено общество, а оно долгое время было устроено патриархально. Сейчас же происходит определённый сдвиг в общественном сознании. Но какова будет дальнейшая судьба этих слов — останутся они в языке или исчезнут по прихоти переменчивой моды, — неизвестно, потому что язык часто развивается непредсказуемо.
Если настанет момент, когда слова “докторка”, “режиссёрка” или “персонажка” перестанут вызывать у большинства русскоговорящих людей улыбку, недоумение или резкое отторжение, ничего не останется, кроме как как зафиксировать их и начать считать нормативными. Пока же эти слова остаются на периферии, за пределами литературной нормы.
В целом, про тренды и тенденции — что сейчас филологи особенно отмечают?
— Тенденций сейчас великое множество, можно говорить о них неделю, не прерываясь, потому что язык — это стихия. Он кипит, бурлит, и пока существует активная речевая практика, будет меняться — это неизбежно. Язык умирает только в том случае, если на нём перестают говорить. И с русским языком в этом смысле все в порядке: он активно осваивает новые коммуникативные пространства — те же социальные сети, мессенджеры, интернет в целом.
С этими сферами, кстати, связаны очень интересные изменения в функционировании языка. Известно, что существует всего две формы коммуникации — устная и письменная, и они живут немного по разным законам. Исследователи говорят, что сейчас возможно идёт формирование третьей, пока условно названной устно-письменной формой коммуникации, которая характерна как раз для общения в интернете, в мессенджерах. То есть формально коммуникация письменная, но имеет черты устной.
Например, при общении в мессенджерах и социальных сетях большое значение приобрело использование смайликов, гифок, мемов и скобочек — в общем, средств, заменяющих невербальные компоненты устной речи (мимику, жесты, интонацию), которые ранее в письме не использовались. Или ещё: функция точки в мессенджерах стала совершенно другой. Она воспринимается даже не как необязательный знак в конце сообщения, а как ненужный. Наличие точки многие трактуют чуть ли не как признак недоброжелательности или токсичности. Закрывающая скобка (сокращённый улыбающийся смайлик) меняет свой статус с положительного на нейтральный. То есть если человек использует такой смайлик в сообщении, это ещё не значит, что он очень рад, это скорее выражение нейтрального тона, а вот отсутствие такой скобки многих начинает тревожить, потому что воспринимается как негативный сигнал дистанцирования и холодности.
В интернете даже ходила такая шутка: “тебе ответили без смайлика? Тебя ненавидят”. Конечно, это гиперболизация, но доля правды о том, как воспринимается закрывающая скобка, здесь есть.
Также можно привести в пример изменение функции зачёркивания. Допустим, если я пишу кому-то записку:
“Ушла в учебный отдел, вернусь в 1̶6̶.̶0̶0̶ 16.30” — функция зачёркивания в данном случае — отмена информации. Зачёркнутое ложно, незачёркнутое — истинно.
А вот в интернет-тексте зачёркивание имеет противоположное значение. Возьмём такое предложение:
“А потом мы поехали в к̶л̶у̶б̶ библиотеку” — здесь мы понимаем, что нужно читать между строк, и правильно именно то, что зачёркнуто. Пишущий нам будто подмигивает, вовлекая в свою игру.
Какие мифы и неточности про язык сейчас есть в обществе?
— Первый миф, который приходит на ум: “нормы придумывают злые филологи, чтобы испортить людям жизнь”. На самом деле нет, нормы всегда берутся из нашей с вами живой речи. Они, конечно, меняются, но не так стремительно, как может показаться, и не по прихоти конкретных людей, а под влиянием речи большинства говорящих. Ведь язык — система консервативная, ему неинтересны перемены ради перемен. Он должен сохранять себя неизменным в течение относительно продолжительного времени, чтобы мы могли друг друга понимать, иначе просто не будем успевать усваивать новую информацию.
Норму никто не придумывает. Нет какой-то организации, где филологи собираются в полнолуние и решают поменять все ударения, никому не сказав об этом, только потому, что им так захотелось. Всегда для того, чтобы понять изменилась какая-то норма или нет, нужно долго наблюдать за речевой практикой, то есть за языковой действительностью.
То, что становится нормой или перестаёт ею быть, обязательно должно соответствовать критерию всеобщей употребительности. Например, нормативным считается вариант “фольгА”, а не “фОльга” как минимум потому, что почти все носители, включая самых образованных, говорят именно “фольгА”.
Следующий миф — старославянский язык является непосредственным предком русского. Когда я студентам на занятиях рассказываю, что это вообще не так, многие с огромным удивлением на меня смотрят. На самом деле непосредственным предком русского языка (а также украинского и белорусского) является древнерусский, а ближайшие живые родственники старославянского — болгарский и македонский. Старославянский долгое время был языком культуры и письменности на Руси, но на нём не говорили.
Все кто ждет победы переходим на сайт