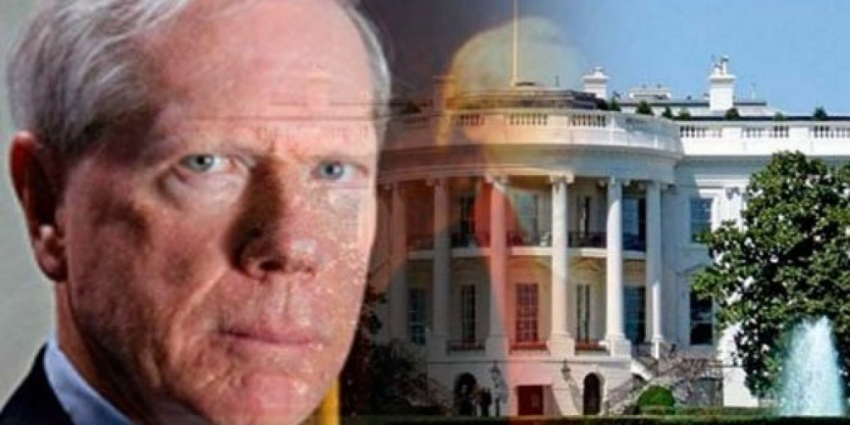Война и дарвинизм: биологический милитаризм в европейской и американской мысли конца XIX – начала XX века
В начале лета 1918 года, когда Первая мировая война подходила к концу, известный американский биолог Раймонд Пирл на научной конференции в Вашингтоне раскритиковал своих коллег за то, что они не рассматривали войну как биологический феномен, «гигантский эксперимент в области эволюции человека». Пирл утверждал, что основу для большой войны в Европе якобы заложила книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов».
Действительно, принято считать, что дарвинизм не просто оказал значительное влияние на различные расистские теории, но и активно поощрял войну. Например, философ и историк Алексей Руткевич в своей работе «Идеи 1914 года» отмечает, что «социал-дарвинизм являлся составной частью идеологии колониальных держав». Но действительно ли дарвинизм поощрял войну и расистский империализм и в итоге породил Первую мировую войну? Или всё-таки сам Дарвин придерживался других позиций, а его теории извратили? Существовало ли альтернативное наследие Дарвина, которое было основано на согласии и взаимопомощи, а не насильственных конфликтах?
Этим вопросом задался историк Пол Крук в своей книге «Дарвинизм, война и история: дебаты о биологии войны от «Происхождения видов» до Первой мировой войны». В этой книге Крук рассматривал вопросы, связанные с биологическими причинами и последствиями войны в период между публикацией «Происхождения видов» Дарвина в 1859 году и Первой мировой войной. Он реконструирует теоретические основы войны и человеческой агрессии многих европейских мыслителей – начиная от Дарвина и Спенсера и заканчивая Кропоткиным и Чалмерсом.
В данной статье мы рассмотрим работу Крука и ряд ее основных положений.
Чарльз Дарвин о войне и борьбе за существование
Пол Крук пишет, что когда милитаристы ссылались на дарвинистские теории для оправдания войны, они часто использовали такие фразы, как «выживает наиболее приспособленный» (или «выживает сильнейший»), но при этом редко обращали внимание на то, что на самом деле говорил Дарвин о человеческой агрессивности и войне. Конечно, Дарвин признавал, что война и генетический отбор были важными факторами в истории человечества, однако он также считал, что в ходе эволюции человека насилие и альтруизм тесно переплетаются, и полагал, что конфликты постепенно становились менее жестокими и уступали место чувству сострадания.
Чарльз Дарвин отмечал, что первобытные люди по своей природе были социальными существами, но в то же время воинственными – племена постоянно воевали друг с другом, ведя вечную борьбу за выживание. У благородных сторон человеческой натуры и моральных качеств была тёмная сторона: они использовались для улучшения методов ведения боевых действий. То есть социальное сотрудничество было неразрывно связано с военной эффективностью, в то время как война имела социальные преимущества и биологические обоснования.
С древнейших времён племена, которые были не только физически сильными, но и социально сплоченными, искусными в организации, технологиях изготовления оружия, племена, в которых было «много храбрых и преданных членов, всегда готовых предупредить об опасности и защитить друг друга», генетически вытесняли другие племена. По мере того, как народы, обладавшие высоким уровнем как социальной, так и военной дисциплины, одерживали верх над другими народами, «их социальные и моральные качества развивались и распространялись по всему миру».
Это породило сложную дилемму, которая не раз поднималась учеными в последующих дискуссиях. Будет ли по мере социального прогресса человечества уменьшаться его склонность к войне или она окажется неискоренимой?
Сам Дарвин в этом отношении был осторожным оптимистом. Он не был склонен рассматривать человеческую агрессивность как неизменную модель поведения, не подверженную культурным изменениям. Дарвин полагал, что этические ценности постепенно будут распространяться и станут неотъемлемой частью человеческой культуры, а альтруизм станет привычным и всеобщим явлением.
Дарвин указывал на то, что в результате конфликтов — между племенами, а затем нациями и империями — возникла и будет развиваться более высокая мораль, которая в конечном счёте сделает войну и различные жестокости устаревшими явлениями. Однако Дарвин сделал по крайней мере две существенные оговорки: (1) он признавал, что для развития человечества необходима постоянная борьба за существование; (2) он допускал возможность регресса или даже тупика в эволюции человека.
Естественный отбор был необходим для развития народов, и Дарвин забил тревогу, впоследствии подхваченную евгенистами, утверждая, что развитые общества рискуют прийти в упадок из-за того, что они чрезмерно защищают слабых и бедных, строят приюты для слабоумных и больных и поддерживают людей со слабым здоровьем с помощью современной медицины и вакцинации. Дарвин писал, что
таким образом, слабые и неприспособленные размножаются, что вредно для человеческой расы.
Сам Дарвин был человеком своего времени, который неоднозначно относился к расовым вопросам. Он придерживался относительно либеральных политических взглядов, был противником рабства и поддерживал Север в Гражданской войне в США. С одной стороны, Дарвин не поддерживал геноцид в отношении «низших рас» во имя прогресса и восхищался «благородными дикарями» — индейцами, которые до последнего сражались с испанцами в Южной Америке. С другой стороны, он не раз испытывал культурный шок при встрече с дикими племенами. Например, после встречи с патагонцами в 1832 году во время путешествия на «Бигле» он писал:
Глядя на таких людей, трудно поверить, что они — твои собратья.
Дарвинизм и милитаризм в Германии
В середине XIX века на Западе возникли доктрины биологического милитаризма, которые, однако, натолкнулись на противодействие со стороны либеральных политических кругов, поскольку противоречили общепринятым ценностям, основанным на традиционной морали, порядке и легитимности. По этим причинам англо-американский милитаризм, который был значительным явлением, выражался не столько в агрессивных дарвинистских терминах, сколько в терминах расовой и имперской службы и патернализма.
В Германии связь между милитаризмом, империализмом и дарвинизмом была наиболее крепкой, однако и там это взаимодействие было достаточно сложным. Есть основания утверждать, что милитаризм Германии Бисмарка также в большей степени зависел от националистических мотивов и «Реальной политики» (Realpolitik), а не от биологических обоснований. Экономические империалисты и ранние сторонники теории «жизненного пространства» (Lebensraum), несомненно, опирались на идеи Дарвина, однако воинственная и экспансионистская идеология, которая объединила в себе дарвиновскую науку с мощной традицией государственности, возникла лишь в начале XX века.
Существует крайне мало свидетельств того, что дарвиновский принцип борьбы за существование использовался в годы правления Бисмарка для обоснования зарождающегося капитализма с помощью «социал-дарвинистских» парадигм. Лишь после 1890-х годов появились радикальные течения социал-дарвинизма, предлагавшие евгенические меры для спасения нации и расы.
Социал-дарвинизм в предвоенной Германии был далеко не так свиреп, как пишут. Самыми известными популяризаторами дарвинизма в Германии были Эрнст Геккель и его друг Вильгельм Бёльше, автор бестселлера «Любовь в природе». В их дарвинизме «борьба за существование» не играла заметной роли.
Прославление войны Хельмутом фон Мольтке и Генрихом фон Трейчке лишь на первый взгляд казалось дарвинистским, на самом деле являясь лишь повторением старых аксиом «кто сильнее, тот и прав». (На самом деле Трейчке с подозрением относился к дарвинизму). Даже генерал Фридрих фон Бернхарди, который называл войну «биологической необходимостью», и которого англо-американские пропагандисты во время Первой мировой войны называли злым гением биологического милитаризма, использовал дарвинизм лишь как полезное дополнение к своим основным идеям о германской гегемонии.
Истинными родоначальниками немецкой конфликтологии можно считать прусских историков Фридриха Гегеля, Леопольда фон Ранке и Генриха фон Трейчке с их додарвиновскими теориями рационализации государственного насилия. Хотя Гегель надеялся, что зло, причиняемое войной, в конечном счёте может быть преодолено с помощью разума и этики, он высоко оценивал стимулирующее воздействие войны, отмечая, что
длительный мир, не говоря уже о «вечном мире», может привести к моральному разложению народов.
Он считал, что война является средством очищения и подъема духа нации. В свою очередь Леопольд фон Ранке отвергал либеральную теорию происхождения государства, утверждая, что государство возникло в результате войны — «матери всего сущего», катализатора прогресса.
«Война как движущая сила перемен»: теории Уолтера Бэджота
В Англии человеком, который сознательно стремился применить идеи Дарвина к социальной теории, был Уолтер Бэджот (Баджот) (1826–1877). Его рассуждения о войне, цивилизации, человеческом прогрессе и регрессе повлияли на Дарвина при написании «Происхождения человека».
Бэджот был убежден в том, что конфликты и военное искусство являются движущей силой перемен. Это было правило, «согласно которому прогресс достигается путём конкурентной борьбы в условиях постоянной войны». На протяжении большей части истории эволюционный успех зависел от того, насколько сильные превосходили слабых, «и в некоторых случаях самые сильные оказывались лучшими».
Бэджот рассматривал историю человечества как кровавое и непредсказуемое событие. Прогресс скорее являлся аномальным, а не неизбежным событием: Дарвин отметил этот отрывок, когда читал эссе Бэджота. По мнению Бэджота,
лишь немногие нации, да и то европейские, смогли продвинуться вперед, и все они считают этот прогресс неизбежным, естественным и вечным.
По мнению Бэджота, войны «безжалостно разрушали старые устои и способствовали инновациям и разнообразию», а поэтому их можно рассматривать как истинные катализаторы общественных преобразований. Он утверждал, будто войны могут приводить к смешению рас и порождать «полезную изменчивость».
Работы Бэджота, несомненно, затрагивали проблемы викторианской эпохи и предвосхитили культурные предрассудки последующего столетия, характеризующиеся страхом перед атавизмом и сложным восприятием прогресса.
Первая мировая война и миф о «звере внутри»
Первая мировая война не изменила ход дискуссий о биологии войны, однако придала им новый импульс. Как позже заметил оксфордский прагматик Фердинанд Шиллер, война «ясно показала, насколько неизменным в своей свирепости остаётся homo sapiens, и насколько иллюзорной была вера в моральный прогресс». Жестокость этих событий придала новую силу мифу о «Звере внутри», который теперь был воплощен в биологических терминах.
В преддверии Первой мировой войны американский психолог Генри Рутгерс Маршалл считал, что люди разделяют с животными унаследованные «инстинктивные чувства», которые лежат в основе моделей поведения «дерись или беги». Он интерпретировал самоотверженное поведение воинов с точки зрения формы альтруизма, которая дает преимущество племени. Боевые инстинкты человека являются примером коллективных инстинктивных действий, свойственных высшим млекопитающим, которые служат биологическому благополучию племени. К «племенным инстинктам высшего порядка» Маршалл относил «патриотический инстинкт».
Другой американский психолог Уильям Джеймс, в свою очередь, прямо заявлял:
Человек — это прежде всего животное, которое любит сражаться... Даже тысячелетие мира не избавит нас от склонности к сражению.
С биологической точки зрения человек был «самым грозным из всех хищных зверей и, по сути, единственным, кто систематически охотится на представителей своего вида». Джеймс отмечал, что несмотря на иррациональность и ужасы современной войны, «ужас порождает очарование».
Первая мировая война действительно рассматривалась многими как бегство от обыденности буржуазной жизни и материализма, как революционный акт против капитализма и как средство духовного возрождения. В Англии писатель Хилэр Беллок превозносил «плодотворное видение войны за возрождение», и многие видели в ней противоядие от упадка цивилизации. Литература военного времени изобиловала метафорами о хрупкости цивилизации и «диком звере», таящемся внутри человека.
Шотландский историк Джон Адам Крэмб, написавший в 1914 году книгу «Германия и Англия», в которой предсказал неизбежный конфликт между этими тевтонскими народами, восхвалял войну как необходимый шаг на пути государства к полной самореализации.
Европейская война действительно казалась, по выражению американского евангелиста Джеральда Стэнли Ли, «величественной и ужасной кульминацией» первобытной теории человеческой природы (теория природы человека Круппа – «поскребите джентльмена, и вы увидите дикаря»). Во время войны широкое распространение получили упрощённые представления о человеке как о боевой обезьяне или первобытном хищнике. Людей изображали марионетками, управляемыми биологическими нитями, а насилие считалось эволюционной необходимостью.
По мнению Пола Крука, теории «боевого животного» были заложены до войны в трудах таких ученых, как Г. Маршалл, У. Джеймс и У. Мак-Дугалл.
Заключение
Современные исследования, посвященные дарвинизму и социальному дарвинизму, продемонстрировали, что однозначно отождествлять дарвинизм с милитаризмом не следует, поскольку он пользовался популярностью как у «левых», так и у «правых», как у революционеров, так и реакционеров, как у социалистов, так и у консерваторов, как у милитаристов, так и у пацифистов.
Пол Крук отмечает, что теории Дарвина безусловно существенно повлияли на дебаты о войне и мире, однако при этом считает, что использование дарвинизма для оправдания войны было излишне преувеличено в исторической литературе. На Дарвина часто ссылались как правые милитаристы, так и левые марксисты (например, тот же Карл Маркс).
Как продемонстрировал Крук, для большинства милитаристов теория Дарвина служила лишь риторическим дополнением к более важным обоснованиям войны, основанным не на дарвинизме, а на реальной политике, радикальном национализме и империализме.
Использованная литература
[1]. Paul Crook. Darwinism, war and history. The debate over the biology of war from the «Origin of Species» to the First World War. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 1994.
[2]. Darwin, Charles. The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.
[3]. Радкау, Й. Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера / пер. с нем. Н. Штильмарк; под науч. ред. С. Ташкенова; вступ. слово С. Ташкенова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017.
- Виктор Бирюков
Обсудим?
Смотрите также: